
У него свой кураж, отличавший его от других артистов Амурского театра драмы (а также всех остальных, где он служил). С одной стороны, хулиган, бунтарь, забияка, а с другой — ну что ребенок, только великовозрастный и глаза как у ребенка — и виноватые, и наивные, и тут же и шкодливые!
Ну вот скажите, где вы видели заслуженного (по званию) артиста, который бы мог вдруг ни с того ни с сего вывалиться на сцену, мягко говоря, не совсем трезвым?! Заслуженные обычно уже рядятся в тогу своего звания, уже бронзовеют и превращаются в мэтров. А Казаковцев — что пацан: то репертуар ему, видите ли, не понравится, то вдруг с режиссером поцапается, то самому директору нагрубит, за что потом и расплачивается то отлучением от ролей, то отлучением вообще от театра.
Сколько сыграно ролей — не считал, но одну из самых первых помнит по сию пору — это как первая любовь, говорит. А роль та — не поверите: сам Дон Кихот! Александр Николаевич говорит не просто «Дон Кихот», что было бы в принципе понятно, а обязательно еще и добавит «Ламанчский», как бы подчеркивая тем самым значимость этого персонажа, этой роли.
На первый взгляд — какой же из него «рыцарь печального возраста»?! Росточком… Ну, сам-то говорит: «практически среднего», но это говорит сам, а вы же знаете его, помните, что с классическим-то образом не вяжется. А в том-то и была соль, в том-то и была правда, что зритель шел не на давно растиражированный образ, а на Казаковцева в этой роли.
А уж случаев-то на его веку в спектаклях всяких было. Смеясь, рассказывает, как однажды по ходу пьесы должен он был застрелить свою партнершу. Пистолет наставил, на курок нажал, а выстрела — как не бывало. Шубинский, который должен был за кулисами доской хлопнуть, отвлекся! Представляете? Опять на курок р-раз! И опять осечка! И тогда Казаковцев «убивает» партнершу рукояткой пистолета, а сам начинает рассматривать оружие — почему ж не выстрелило — и заглядывает в дуло. И тут — ба-бах!
И тогда он резко отстраняется и высвистывает: «фьюить!», дескать, пуля мимо пролетела! В зале гром хохота и аплодисменты — не растерялся.
Сейчас Александр Николаевич не у дел — сломил тяжкий недуг: как-то все в кучу собралось, сплелось, с размаху о землю шмякнуло. Потеря жены и сына, неустроенность, прежние раны, годы — подкосили старого вояку. Незрячий сидит в своей конурке в доме престарелых, иногда играет на любимой свирели — верном друге, с которым можно, ничего не опасаясь, поделиться, кому можно довериться. Ждет прихода сослуживцев — слава богу, не забывают, забегают…
А еще, случается, снится ему сон, когда выходит он на сцену, в кураже, в уверенности покорения зала… А слов не помнит! Ну ни одногошеньки!
Несколько лет назад на радио готовили мы с ним передачу, в которой Александр Николаевич читал пастернаковского «Гамлета». Помните, «Шум затих, я вышел на подмостки»? Сидели, вспоминали те дни, ту работу над программой, Сан Николаич тихо произнес: «А ведь обо мне стихотворение!». Продекламировал: «Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути, — я один…». Вздохнул. Занавес.










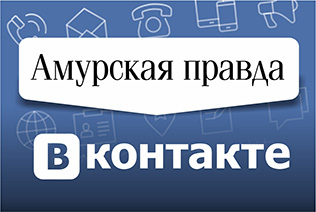
 В огороде жителя Свободного отловили самца косули с шикарными рогами
В огороде жителя Свободного отловили самца косули с шикарными рогами
Добавить комментарий
Комментарии