
— Ген, ну как-то не очень свежо… «Грани»… Да этих «Граней»…
— Старик, ты не понимаешь! Слова — чушь! Важно — их толкование!
Не думаю, что он прислушался ко мне, скорее, к себе. Первый — тонюсенький сборничек его стихов называется «Будни». Он, действительно, о бамовских буднях, там все глубоко пережитое, увиденное, прочувствованное. И очень личное.
Будучи по жизни человеком не самым постоянным, поэзии был предан всем своим существом. Жаль, что оставил после себя совсем немного строк. Зато каждая — настоящая. Его стихи знали, они ходили по рукам. Однажды собрались на посиделки у бамовского собкора «Амурки» Николая Усова, тогда и прозвучало еще не изданное:
Гостиница!
Двухкоечная келья,
Настольный свет
Да вьюга за окном.
Чужого пира
Горькое похмелье,
Ночных видений
Грустное веселье
И дух поэм
Над письменным столом!
Гостиница!
Ты как исповедальня,
Мне твой приют
Порой необходим.
Ты — полустанок
Над дорогой дальней,
Где юность
Мне назначила свиданье,
Где так легко стать
Снова молодым.
Во внешности его было что-то демоническое: небольшого росточка, с седыми волосами до плеч и сверкающим, как у таракана, глазом, которым он, казалось, вынимал всю душу, когда впивался им в собеседника. От этого взгляда невозможно было укрыться: он им буравил, он им просвечивал, как рентгеном.
Разного рода семинары литераторов БАМа проводились с завидной регулярностью, и уровень их был весьма значителен по составу, как самих авторов, так и кураторов, приезжавших из Москвы и Хабаровска, — БАМ в то время гремел…
Перед очередным заседанием где-нибудь в курилке повисал вопрос, мол, Кузьмин будет или нет? Его присутствие многим портило настроение. И вот совещание: очередной поэт читает свои опусы, затем слушает замечания собратьев по цеху. Сначала бамовские коллеги, потом калибр покрупнее — представители журнала «Дальний Восток», Хабаровского книжного издательства… А там и московские литераторы молвят свое слово… Гена скучающе всех слушал и делал пометки в своем блокноте. Его единственный глаз выражал скуку и полнейшее непонимание, зачем он здесь находится. Потихонечку поток выступающих иссякал, каждый литератор получал свою порцию отзывов и успокаивался, рассчитывая получить место в каком-либо печатном издании. И тут наступало время Кузьмина…
Он не спеша, по-иезуитски неторопливо выходил со своего места и становился перед залом. Словно собираясь с мыслями, окидывал взглядом совершенно заиндевевшие окна, тяжело вздыхал. И, встряхнув пачкой листов со стихами, тихо, с горечью вопрошал: «Как, и вы считаете все это дерьмо поэзией?!»
И начиналась буря. Гена подвергал скрупулезному анализу каждое слово попавшего ему на язык поэта. Это был его звездный час. Он был в центре внимания, он был центром Вселенной, он был вершителем судеб. Он парил над всеми, как орел высматривал добычу и камнем с высоты бросался на нее, терзал, выклевывал все живое и опять взмывал в небо, и опять бросался уже на другую жертву! Он был ненасытен и кровожаден, он был жесток и страшен! При этом он был прекрасным оратором, понимающим, где понизить голос до трагического шепота, где возвысить его до жутких высот, а где вдруг сделать паузу, с тем, чтобы затем резко завершить словесным нокаутом.
Что нужно обязательно отметить: его речь была по делу, его оценки были остры, но справедливы, едки, обидны, но истинны, и при этом для него не существовало никаких авторитетов — ни местных, ни столичных. Достаточно упомянуть, что однажды после одного из таких совещаний он полез драться с самим редактором отдела поэзии журнала «Юность» Олегом Шестинским, не сойдясь с тем во мнении! В своих стихах был тонок, точен и глубок, в отношении к стихам чужим — едок, танкообразен, не знающим никакого снисхождения… И кто знает, может быть, плеяда ныне известных, чтимых, уважаемых, замечательных бамовских поэтов стала таковой, в том числе и благодаря критике Геннадия Кузьмина?








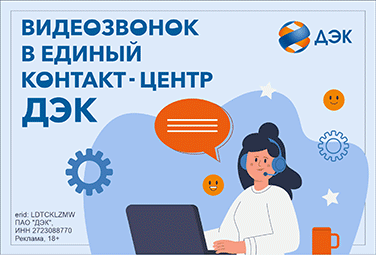

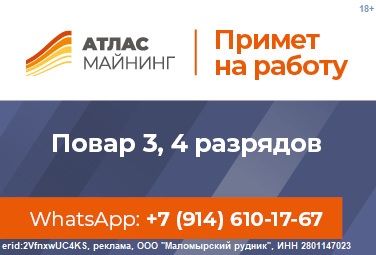
 В Амурской области образовали два новых муниципальных округа
В Амурской области образовали два новых муниципальных округа
Спасибо память и теплые воспоминания о моем отце!!С уважением дочь Г.Кузьмина Ольга!!!
— Кузьмина Ольга